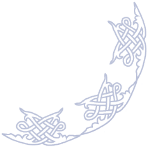|
|||||
|
А.Шевцов, «Очищение. Том III. Русская народная психология», Тропа Троянова, 2006. - 616 с - (Школа самопознания)
Двадцать седьмой год это не начало и не конец это лишь связь времен. Нас убедили, что с приходом к власти коммунистов оборвалась предыдущая история России. Во многом это верно, но только не для науки вообще, не для естественной науки в частности и не для таких послушных девочек и мальчиков, как этнографы и языковеды. Эти научные дисциплины оказались вне истории ведь их задача и до революции и после нее была одинакова: способствовать уничтожению народных суеверий, чтобы была возможность для Прогресса. Способствовать весьма неприметным способом: всего лишь записывая их в книжку, чтобы врага уничтожить, его надо изучить... И не деспотический режим Советской власти вынудил ученых уничтожать собственную культуру. Их вынудили внутренний душевный выбор и сами Боги Наука и Прогресс, которым они служили. Это я и хочу показать в этом разделе. Что значит избрать себе Бога, когда речь идет об ученом? Мало кто из наших ученых сделал для сохранения русской красоты больше, чем «археолог русского быта», великий мечтатель Александр Николаевич Афанасьев (18261871). Россия в неоплатном долгу перед ним. И он никогда не был врагом русского и собирал сказки и обычаи своего народа не затем, чтобы уничтожить в угоду естественнонаучной картине мира. Афанасьев, вслед за Яковом Гриммом, искал в том, что сохранилось в памяти народа, пути к Истокам, к времени преданий о самом Начале. Поэтому он, вслед за Буслаевым, считается основоположником русской мифологической школы. Но именно поэтому на его примере стоит показать, как идет служение Богам Науки. И как из-за этого теряется чистота видения. Почти все известные русские люди середины девятнадцатого века были поражены болезнью научности. А научность тогда понималась по образцу естествознания. И естествознание, как раковая опухоль сознания, проползало в умы даже тех, кому совсем не было нужно или полезно. |
|||||

|
|||||
|
Афанасьев учился в Московском университете на юриста как раз тогда, когда Герцен призывал Россию из Англии пойти по западному пути, а историк Грановский читал в университете лекции о пользе прогресса, собиравшие весь цвет московской интеллигенции и множество скучающих без зрелищ дам. Именно тогда кафедра Грановского «выросла в трибуну общественного протеста», как писал Герцен.
Университеты бурлили, требуя западных свобод, а монархия душила все ростки просвещения, закрывая лицеи и любые другие рассадники заразы. Вскоре будет запрещена даже философия. Хорошо или плохо для России было то, что призывали на ее голову западники всех мастей, я обсуждать не хочу, хотя октябрьская революция и все, что за ней последовало под именем коммунизма, было естественным завершением того посева, что совершался в первой половине девятнадцатого века. И оправдывать самодержавие тоже невозможно что-то оно делало не так, раз в итоге мы, как народ, потерпели такое жуткое историческое поражение... Но меня занимает сейчас не история, а лишь очищение сознания. А именно то, что искажало любые действия русских интеллигентов, на какую бы величайшую цель они ни были направлены. Поэтому я приведу лишь один пример того, как болел им даже такой архивный червь, как Афанасьев. Его знаменитый трехтомник «Поэтические воззрения славян на Природу» вызывал у читающих его людей либо глубочайшее приятие и восхищение, либо такое же глубокое неприятие. Неприятие это относилось именно к тем искажениям, которые он непроизвольно вносил в то, что изучал, поскольку следовал задачам мифологической школы. О том, насколько он был неправ, а его подход неприемлем в этнографии, впоследствии напишет один из его последователей, известнейший русский этнограф Д.К.Зеленин. Но я расскажу о нем особо. Что такое мифологическая школа фольклористики? Исходно она, как способ извлекать уроки из собственной истории и мифологии, возникает в Германии в конце XVIII начале XIX века. В основе лежала философия Шеллинга и братьев Шлегелей, что значит, что это был поиск единения с неким мировым духом. Немецкая мифологическая школа была направлена на усиление германского духа и, безусловно, легла одним из отдаленных корней в идеологию национал-социализма двадцатого века. Русская мифологическая школа возникает в 40-50-х годах девятнадцатого века. «Основоположником ее был крупнейший ученый, профессор Московского университета Ф.И. Буслаев (1818-1897). В русле ее работали также А.Н. Афанасьев, О.Ф. Миллер, А.А. Котляревский, А.А. Потебня, к ней относятся ранние работы А.Н. Пыпина, А.Н. Веселовского и других» (Кирдан, с. 11). Это все были русские языковеды, фольклористы и мифологи. Но вот задачи свои они, подобно немецким предшественникам, брали у тех, кого уважали. Немцы уважали философов, а наши, если верить советской науке революционно-демократических интеллигентов! «Русские ученые ставили перед собой важную гражданскую задачу изучения мифов как проявления процессов самосознания народа. Известный совет-ский фольклорист и исследователь истории русской науки о народной поэзии М.К. Азадовский писал: “Различны были и корни русской и западноевропейской, в частности германской мифологической школы. Первая сложилась в процессе формирования русской передовой науки в 40-х годах, создавшейся под влиянием Белинского, Герцена, Грановского”...» (Там же). Утверждения советских исследователей могут быть и натяжкой. Если бы я писал об истории мифологической школы, я бы проверил эту зависимость мифологов от задач, поставленных нашими революционными прогрессорами, прямо по их работам. Наши ученые слишком много врали и подгоняли всех, кто более-менее выделялся, под облик революционных предшественников. Доверять ученым нельзя. Но у меня сейчас психологическая задача, и, с этой точки зрения, мнение Азадовского, высказанное в середине двадцатого века, и мнение приведшего его в начале восьмидесятых исследователя показательны: основная масса фольклористов, этнографов и языковедов воспитывалась на таком понимании мифологической школы и до сих пор его придерживается. И даже если они теперь стараются избегать явного подчеркивания связей своих предшественников с революционной подготовкой, они никак не отрицают их связи с передовым и прогрессивным, и уж тем более с наукой. Один из лучших наших фольклористов Алексей Леонидович Налепин, издавая работы Афанасьева в самом начале перестройки, писал о том, что взгляды Афанасьева той поры, когда он учился на юриста, отнюдь не были революционными. Как юрист, он вырос в рамках историко-юридической школы, которую возглавляли С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин, Н. В. Калачов, сами немало сделавшие для возрождения русской культуры. А Кавелин так и прямо занимался этнографическими сборами. Именно он возглавил сопротивление физиологическому беспределу, учиненному Чернышевским и Сеченовым в умах русского общества той поры. Однако, даже несмотря на то, что вслед за Кавелиным многие люди через какое-то время увидят, какое зло входило в Россию под именем естествознания, в то время, когда закладывались основы, они все еще были поражены возможностями, которые давал физиологический способ говорить о человеке. Это казалось столь заманчивым, что физиологию хотелось перенести на все общество, историю, народ. Этим болел и предшественник Афанасьева Буслаев, болел и Афанасьев. «Духовными наставниками Афанасьева в эти годы были С.М. Соловьев, суть исторических концепций которого определялась А.Н. Пыпиным так: “Понятие о народе, как организме, и об истории народа, как органическом развитии его исконных бытовых начал, в обстановке природных условий и внешних условий”, и К.Д. Кавелин…» (Налепин, с. 11). Народ как организм! Как звучит, и какие возможности открывает для прогрессивного ученого! А что такое организм? Ну… да какая, собственно, разница! Что-то целое, не тело, но и не душа, но звучит чарующе!.. А что Афанасьев? Прочитаем самое начало «Поэтических воззрений…», первый том которых вышел в 1865 году, то есть спустя всего пару лет после выхода Сеченовских «Рефлексов головного мозга», но уже когда вовсю шли споры о том, что под видом естественной науки в России насаждается бездуховность, а Чернышевский за связь с террористами и пропаганду взглядов, разрушающих устои государства, лишен прав гражданства и отправлен в ссылку. Вот как посчитал Афанасьев самым лучшим способом начать разговор о происхождении мифа: «Богатый и можно сказать единственный источник разнообразных мифических представлений есть живое слово человеческое, с его метафорическими и созвучными выражениями. Чтобы показать, как необходимо и естественно создаются мифы (басни), надо обратиться к истории языка. Изучение языков в разные эпохи их развития, по уцелевшим литературным памятникам, привело филологов к тому справедливому заключению, что материальное совершенство языка, более или менее возделанного, находится в обратном отношении к его историческим судьбам: чем древнее изучаемая эпоха языка, тем богаче его материал и формы и благоустроеннее его организм; чем более станешь удаляться в эпохи позднейшие, тем заметнее становятся те потери и увечья, которые претерпевает речь человеческая в своем строении. Поэтому в жизни языка, относительно его организма, наука различает два различных периода: период его образования, постепенного сложения (развития форм) и период упадка и расчленения (превращений)» (Афанасьев, с. 5). Организм языка! Что это такое? Да какая разница, зато как звучит, как воздействует на душу человека, желающего из мещан пробраться в класс людей образованных! «Организм» это та же «проза» для мещан в просвещении. Понимал ли Афанасьев что и зачем делает, создавая этого странного монстра понятие «языкового организма»? Он что, действительно хотел рассмотреть язык физиологически, и этим физиологическим способом оказалась мифологическая школа? Или же это всего лишь, как говорится, метафора? То есть, как определяет словарь, оборот речи, заключающий скрытое уподобление; образное сближение слов на базе их переносного значения. Иными словами, просто неточное наименование, возможно, даже искажение, оправданное лишь задачей, которую ставит перед собой пишущий. К примеру, в поэзии использование метафор оправдывается задачами «поэтического воздействия» на слушателей. Что это такое поэтическое воздействие никто не определил, но поэты его чувствуют и считают оправдывающим любые поэтические средства. В поэзии это, вероятно, так и есть. Ведь поэзия призвана вызывать восхищение, то есть выманивать, «хищать» души людские вверх, горе. Затем ей и нужны ее средства воздействия. А в науке? В науке, похоже, воздействие на души ценится не многим меньше. От одной возможности ввернуть какое-нибудь естественнонаучное словцо вместо естественного слова живого языка у ученых дыханье в зобу заходится, и они теряют власть над собой. Сами сочинения Афанасьева показывают: он никогда не разрабатывал понятие о народном языке, как об организме. Значит, это слово вставлено лишь для затравки, чтобы отозвались улученные наукой души читателей. Поэтому и в названии главы стоит: «Происхождение мифа, метод и средства его изучения». Метод это тоже научно! Особенно если не переводить на русский. А далее идет первое предложение, которое вы уже читали: богатый и можно сказать единственный источник разнообразных мифических представлений есть живое слово человеческое, с его метафорическими и созвучными выражениями. Иными словами, говоря чуть дальше об этом самом «слове человеческом» или языке и речи, Афанасьев прекрасно осознавал, что использует метафору. А что такое для него метафора? Как вы помните, он выделяет в развитии языка два периода: первый образования, второй упадка и расчленения. Первый это не просто время сложения языка, это время, когда все вещи просто называются народом, как они есть, это время, когда язык точен. А вот «во второй период, следующий непосредственно за первым, прежняя стройность языка нарушается, обнаруживается постепенное падение его форм и замена их другими, звуки мешаются, перекрещиваются; этому времени по преимуществу соответствуют забвение коренного значения слов» (Там же, с. 6). Не является ли это высказывание иным определением метафоры? То есть оборота речи, заключающего в себе скрытое уподобление; образное сближение слов на базе их переносного значения. Как ни странно, но Афанасьев, похоже, относит появление метафор к периоду рождения языка. Рассуждения его достаточно мудрены, чтобы выглядеть научными, но суть их сводится к тому, что первобытный человек всего лишь пытался обозначить «свои впечатления, производимые на него предметами и явлениями природы», создавая корни слов из тех звуков, что вырывались у него, когда он созерцал эти явления и вещи. Но, «так как различные предметы и явления легко могут быть сходны некоторыми своими признаками и в этом отношении производят на чувства одинаковое впечатление, то естественно, что человек стал сближать их в своих представлениях и придавать им одно и то же название» (Там же, с. 7). Естественно это или не естественно, предоставлено судить автору. Ему так удобно видеть развитие языка, но чтобы мы были убеждены, он использует научное слово из эволюционной теории: естественно. Естественно значит, верно. Верно пока только одно: мы застаем язык в таком состоянии, что разные явления именуются одними и теми же словами. А для обозначения одной и той же вещи могут использоваться разные слова, в зависимости от того, что человек хочет подчеркнуть в этой вещи как главное для себя. Значит, язык в своем развитии как-то приходит к такому состоянию, в котором он имеет множество возможностей для выражения того, что хочет обозначить. Если исходить из «логического предположения» о двух периодах развития языка, к какому должны относиться такие замены прямых обозначений явлений иносказаниями? Афанасьев, судя по всему, относит к первому. «Предмет обрисовывался с разных сторон, и только во множестве синонимических выражений получал свое полное определение. Но должно заметить, что каждый из этих синонимов, обозначая известное качество одного предмета, в то же самое время мог служить и для обозначения подобного же качества многих других предметов, и таким образом связывать их между собою. Здесь-то именно кроется тот богатый родник метафорических выражений, чувствительных к самым тонким оттенкам физических явлений, который поражает нас своею силою и обилием в языках древнейшего образования и который впоследствии под влиянием дальнейшего развития племен постепенно иссякает. В обыкновенных санскритских словарях находятся 5 названий для руки, 11 для света, 15 для облака, 20 для месяца, 26 для змеи, 35 для огня, 37 для солнца и так далее. В незапамятной древности значение корней было осязательно, присуще сознанию народа, который со звуками родного языка связывал не отвлеченные мысли, а те живые впечатления, какие производили на его чувства видимые предметы и явления» (Там же, с. 7-8). О чем здесь сказал Афанасьев? Что он доказал этим внушительным примером о санскрите, заимствованным у Макса Мюллера? То, что язык отражает жизнь народа и творится им для обозначения, в первую очередь, того, что важнее. Безусловно, в том, что в языке древних ариев было так много слов для обозначения солнца, огня, месяца и змеи, отражается главная мысль всей мифологической школы: люди прошлых веков видели мир иначе. Можно сказать, жили в ином мире. Но мир менялся, и с ним менялся язык. Его обеднение в одних частях означало, что эти части языка соответствуют частям мира, теряющим для нас свое значение, а появление новых выражений означает, что появились другие части мира, которые настолько захватили наше воображение, что вызвали потребность творить новые слова. К примеру, таким источником новых слов оказалась естественная наука. Означает ли это, что слова древности были точны, а слова второго периода существования языка утеряли свою связь с вещами и явлениями мира? Афанасьев утверждает именно это: «Теперь представим, какое смешение понятий, какая путаница представлений должны были произойти при забвении коренного значения слов; а такое забвение рано или поздно, но непременно постигает народ» (Там же, с. 8). Далее Александр Николаевич живописует ужасы утраты исходных точных значений слов или корней, передающих прямые впечатления от вещей или явлений природы. Он говорит о том, как «самый слух утрачивает свою излишнюю чуткость к произносимым звукам, когда силою долговременного употребления, силою привычки слово теряет наконец свой исконный живописующий характер, и с высоты поэтического, картинного изображения нисходит на степень абстрактного наименования делается ничем более, как фонетическим знаком для указания на известный предмет или явление» (Там же, с. 8-9). А теперь сравним эти возвышенные строки с тем, что пишет о языке сам Афанасьев в том отрывке, с которого начался разговор: чем древнее изучаемая эпоха языка, тем богаче его материал и формы и благоустроеннее его организм; чем более станешь удаляться в эпохи позднейшие, тем заметнее становятся те потери и увечья, которые претерпевает речь человеческая в своем строении... Как, по-вашему, осознавал автор этих строк, что он увечит тот самый исконный, поэтичный русский язык словами вроде «организм», «фонетический знак» и тому подобными простонаучными словечками? Я лично чувствую как раз обратное: говоря о языке, как об организме, он захвачен поэзией новых звучаний, он творит, он увлечен, как увлечены были поэты революции, вроде Маяковского, обыгрывая кровавые звучания своих прокоммунистических вирш. Поэту безразлично, что он говорит, ему важно, чтобы его слова восхищали и увлекали. А для этого они должны биться в одном созвучии с силой, которая наполняет новое время... Ученые всё знают и всё понимают. Они такие умные, они выше всего земного, они совсем как поэты или мистики. Они только не могут преодолеть своей человеческой природы и победить собственные слабости. Им очень хочется быть владыками дум человеческих и вождями их душ, а поиск истины этому мешает. «...переживая века, дробясь по местностям, подвергаясь различным географическим и историческим влияниям, народ и не в состоянии был уберечь язык свой во всей неприкосновенности и полноте его начального богатства: старели и вымирали прежде-употребительные выражения, отживали век грамматиче-ские формы, одни звуки заменялись другими родственными, старым словам придавалось новое значение. Вследствие таких вековых утрат языка, превращения звуков и подновления понятий, лежавших в словах, исходный смысл древних речений становился все темнее и загадочнее, и начинался неизбежный процесс мифических обольщений, которые тем крепче опутывали ум человека, что действовали на него неотразимым убеждением родного слова» (Там же, с. 9). Кто нас спасет от этого ужасного «мифического обольщения» собственной старины, неотразимого убеждения родного языка, поэтичности древних речений и обычаев? Конечно, наука! Она придет, и очарует нас новыми словами, с помощью которых и объяснит просто и доходчиво, что хотели сказать, а самое главное, сделать наши первобытные и примитивные предки... С этого перетолковывания древних речений началась первая научная попытка понять русскую древность как время «мифических обольщений». Выражалась ее научность в том, что мифологическая школа не хотела спрашивать у народа, что он видит, когда говорит о том или ином явлении или понятии, а отметала все эти «ненаучные объяснения» и пыталась мыслью проникнуть сквозь живой язык к его мифологическим корням. За это следующие поколения ученых осудили мифологическую школу, объявив ее ненаучной. Она навязывала действительности свои представления. На смену ей пришли другие подходы культурно-исторический, затем сравнительно-исторический и тоже были заменены. Но всегда движение было в одном и том же направлении усилить научность в изучении народного языка и обычая. И вот мы имеем сегодняшний день науки ученые по-прежнему отказываются просто учиться у народа, по-прежнему ощущают себя выше и умнее. И все, что сохранилось от времен Афанасьева это восхищение и даже преклонение перед языком. Не народным, нет, перед поэтическим языком науки. Читать работы наших языковедов стало так же немыслимо, как понимать молодежный рэп сила в нем есть, она заставляет дергаться тела, а смысл нужен только зрителям со стороны. Когда ты внутри, главное дрожать в едином ритме. Современные русские языковеды, пишущие о русском языке, дрожат так, словно соревнуются: кто скажет о русском языке иностраннее. Туда же стремятся влиться и этнографы и фольклористы. Афанасьев и его мифологическая школа забыты современными мифологами, но мода на простонаучные словечки, введенная Афанасьевым, жива и процветает. В этом наука остается себе верна. Но Афанасьев очень мягкий пример научности в изучении народных обычаев. Я хочу показать более воинственные и разрушительные примеры. |
|||||

|
|||||

|
|||||

|
|||||

|
|||||

|
|||||
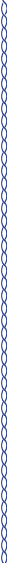
|
|||||

|
|||||

|
|||||

|
|||||

|
|||||