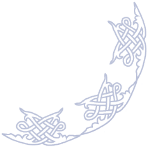А.Шевцов, «Очищение. Том III. Русская народная психология», Тропа Троянова, 2006. - 616 с - (Школа самопознания)
Конечно, времена меняются, и меняются люди. И даже все те науки, которые я объединяю под именем этнографии, тоже меняются. Немножко... Но достаточно ли они меняются, чтобы им можно было доверять, когда изучаешь душу, как ее видел народ?
Как вы понимаете, меня, прежде всего, занимают всяческие искажения, которые вносились в описания народного видения учеными ради скрытой цели занять достойное место в научном сообществе. Уходят ли эти искажения из науки?
Не думаю. Да и как им уходить, когда слависты, языковеды, фольклористы и этнографы никогда и не задумывались о таких «психологических» помехах, могущих возникать при их работе. Соответственно, никогда и не убирали их из своих произведений. Правда, при этом для любого ученого существует требование объективности, то есть требование писать так, как будто его личность отсутствует совершенно. Возможно, это и служит некоторой защитой от грубых оценок, которые навязываются читателю.
Но если твоя скрытая цель стать маститым ученым или просто делать науку, сколько бы ты ни старался быть объективным, цель эта свое дело сделает. Единственное, что может помочь в данном случае, это смена цели с цели занять место в науке на цель действительно понять, как же народ видел душу.
Можем ли мы рассчитывать, что это изменилось?
Честно признаюсь, я даже не знаю. Никто из ученых такой цели не заявляет. А если бы заявлял, то должен был бы уйти от своей основной специальности к психологическим исследованиям. Как еще он мог бы исследовать душу? Но таких психологов или этнопсихологов я не знаю. Наши этнопсихологи изучают не народную психологию, а решают госзаказ: как управлять государством в условиях непрекращающихся этнических конфликтов и межэтнических разногласий.
Что же касается этнографов всех видов, то у них, мне кажется, сохраняются все те же установки делать науку на народе. Они становятся мягче век от века, но они сохраняются и искажают действительность. Попробую обрисовать эту связь самыми крупными мазками. На подробное исследование в этой книге у меня нет времени.
Конечно, времена меняются, и меняются люди. И даже все те науки, которые я объединяю под именем этнографии, тоже меняются. Немножко... Но достаточно ли они меняются, чтобы им можно было доверять, когда изучаешь душу, как ее видел народ?
Как вы понимаете, меня, прежде всего, занимают всяческие искажения, которые вносились в описания народного видения учеными ради скрытой цели занять достойное место в научном сообществе. Уходят ли эти искажения из науки?
Не думаю. Да и как им уходить, когда слависты, языковеды, фольклористы и этнографы никогда и не задумывались о таких «психологических» помехах, могущих возникать при их работе. Соответственно, никогда и не убирали их из своих произведений. Правда, при этом для любого ученого существует требование объективности, то есть требование писать так, как будто его личность отсутствует совершенно. Возможно, это и служит некоторой защитой от грубых оценок, которые навязываются читателю.
Но если твоя скрытая цель стать маститым ученым или просто делать науку, сколько бы ты ни старался быть объективным, цель эта свое дело сделает. Единственное, что может помочь в данном случае, это смена цели с цели занять место в науке на цель действительно понять, как же народ видел душу.
Можем ли мы рассчитывать, что это изменилось?
Честно признаюсь, я даже не знаю. Никто из ученых такой цели не заявляет. А если бы заявлял, то должен был бы уйти от своей основной специальности к психологическим исследованиям. Как еще он мог бы исследовать душу? Но таких психологов или этнопсихологов я не знаю. Наши этнопсихологи изучают не народную психологию, а решают госзаказ: как управлять государством в условиях непрекращающихся этнических конфликтов и межэтнических разногласий.
Что же касается этнографов всех видов, то у них, мне кажется, сохраняются все те же установки делать науку на народе. Они становятся мягче век от века, но они сохраняются и искажают действительность. Попробую обрисовать эту связь самыми крупными мазками. На подробное исследование в этой книге у меня нет времени.
Как этнографы очищаются от самых грубых домыслов о народном мировоззрении, можно показать на примере их отношения к Афанасьеву. Я уже говорил, что его работы вызывали или полное восхищение или полное неприятие. Второе было выражено в 1927 году Дмитрием Константиновичем Зелениным (1878-1954):
«Старая работа А.Н. Афанасьева “Поэтические воззрения славян на природу” в свое время имела большое значение, однако давно уже утратила всякую научную ценность. А.Н. Афанасьев был наиболее последовательным сторонником мифологической школы, возводившей все земное к небесному началу. Теории Гримма, Шварца и Макса Мюллера доведены им до крайности. В своих работах Афанасьев использовал статьи из малодоступных русских провинциальных изданий, однако даже пользоваться его трудами только как собраниями материалов также не рекомендуется, так как он не всегда разграничивает объективное изложение фактов и собственные субъективные выводы» (Зеленин, Восточнославянская этнография, с. 13-14).
Неприятие, как вы видите, жесткое и полное. С самим Зелениным его последователи обойдутся мягче. А при этом он сам шел во многом очень, очень близким к Афанасьеву путем. Общая оценка его творчества была сделана в середине девяностых годов прошлого века другим виднейшим русским этнографом и языковедом Никитой Ильичем Толстым.
Высказав общее положительное отношение к трудам и заслугам Зеленина, Толстой становится непримирим, когда доходит до рассказа об увлечениях Д. К. периода тридцатых годов, когда его работы начинают перекликаться с яфетической теорией языка академика Марра:
«Наивность некоторых объяснений Д. К. напоминает еще более наивные выкладки создателя “нового учения о языке” Н.Я. Марра. Н.Я. Марр был современником Д. К., и ему посвящена зеленинская работа о магической функции слов и словесных произведений (1935), в которой, как и в монографии “Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии” (1929-30), анализируются запреты на определенные слова» (Толстой, Труды Зеленина, с. 545).
Чуть ниже Толстой объясняет суть предвзятости, которую вносили в свои исследования Марр и Зеленин. Она прямо совпадает с тем подходом, который я показывал на примере Соболева, как проявления естественнонаучного эволюционизма в этнографии.
«Вероятно, сама идея стадиальности и единства глоттогонического (языкотворческого) процесса была воспринята Марром из положений эволюционной этнологической школы Тэйлора и Фрэзера, которые, грубо говоря, считали, что все человечество проходит единый путь культурного развития от первобытности до современной цивилизации и что отдельные этносы и этнические массивы находятся лишь на различных стадиях этого развития.
Отсюда нередко делался малообоснованный вывод, что культура африкан-ского или американского аборигена это “детство” современной европейской культуры.
Н.Я. Марр освоил этот тезис, приспособил его к языкам мира и довел до полного абсурда. В отличие от марристов Д. К. положений эволюционистов до абсурда не доводил…» (Там же, с. 546).
Но при этом его попытки подкрепить «рациональное зерно» эволюционной теории своим материалом приводили к тому, «что материал оставался сам по себе, а общие концептуальные построения сами по себе» (Там же).
Вот такое признание заслуг...
Что я хочу сказать этим примером? Да то, что ученые ошибаются, что далеко не всегда очевидно при чтении их работ, особенно когда они написаны уверенно и даже высокомерно. И не всегда вольны следовать даже тем принципам, что сами заявляют.
Вот Зеленин заявил, что у Афанасьева ничего брать нельзя он ненаучен! И я не сомневаюсь, что он был в этом искренен. Но был ли он при этом и проницателен? Видел ли он скрытые, точнее, не заявленные цели Афанасьева? В частности, цель стать уважаемым членом научного сообщества? Не видеть это было невозможно. Но у ученых существует всеобщий договор умолчания об этой цели. Предполагается, что она есть, но не важна, потому что ценить ученого надо по тому, как он постигал истину.
Верно, согласен. Но зачем же при этом еще и лишать себя видения? Афанасьев хотел быть большим ученым. А большим ученым можно было стать, только если тебя уважали естественники. И Афанасьев, юрист и языковед, старается обрести соответствующий облик, используя естественнонаучные словечки. В итоге его речь становится простонаучно поэтической, но не это главное. Главное то, что он сам вынужден приспосабливать простонаучные словечки к сказанному, а сказанное приспосабливать к ним!
Из-за этого меняется сам способ думать, потому что на деле это все оказывается приспособлением рассказа о народных обычаях к понятиям естественнонаучной картины мира. У Афанасьева это повело только к тому, что он перестал доверять народу и стал за него выдумывать, какой смысл был утерян в народных высказываниях и обычаях. У Даля это зашло дальше, и он вместе с врачами-просветителями высмеивал и стерилизовал народную культуру от всего, что противоречило материалистической вере естественников.
Зеленин, отрицая Афанасьева, не взял у него ничего, кроме того, чему среди ученых не принято давать имена скрытой цели стать уважаемым ученым. А она непроизвольно повела к необходимости думать об этнографии естественнонаучно. Как только он от вполне материальных вещей вроде сельского хозяйства и скотоводства и одежды переходит к Народным верованиям, у него тут же начинают появляться выражения, вроде:
«Восприятие природы как живого организма, который не только живет особой самостоятельной жизнью (аниматизм), но также одушевлен и наполнен различными духами (анимизм), это восприятие довольно хорошо сохранилось
у восточных славян до наших дней» (Зеленин, Восточнославянская этнография, с. 411).
Куда девается вся чрезмерная критичность и независимость мысли наших этнографов, как только появляется возможность сумничать физиологично?! Где этот борец за чистоту этнографических описаний, походя оплевавший не одного собирателя за предвзятость взглядов, слышал, чтобы русский мужик говорил о каком-то организме, да еще в отношении природы? Что за подтасовка?! Ведь, в сущности, он говорит здесь, что простой русский мужик глядит на природу, а прозревает организм.
Да, так делает ученый, когда не хочет видеть действительность. Но это лишь модный научный способ говорить, хотя в последние десятилетия он заменился другой модой. Теперь такие исследователи, как тот же Никита Ильич Толстой, глядят на проходящий перед ними обряд, а видят текст.
И принимаются описывать происходящее с точки зрения грамматики...
Как он сам объяснял: «под текстом понимается не последовательность написанных или произнесенных слов, а некая последовательность действий,
и обращения к предметам, имеющим символический смысл, и связанная с ними речевая последовательность. Считая, например, обряд таким текстом, выраженным семиотическим языком культуры, мы выделяем в нем три формы, три кода или три стороны языка вербальную (словесную, слова), реальную (предметную предметы, вещи) и акциональную (действенную действия)» (Толстой, Язык и культура, с. 32).
К чему ведет тот способ описывать видение русским человеком природы, который предлагает Зеленин? Если это дается в учебнике этнографии, то означает одно: студентам навязывается способ, которым желательно делать этнографию. Если это дается в основополагающих работах человека, который создал свою исследовательскую школу, как Толстой, то это означает, что подобный способ видеть то, на что глядишь, навязывается исследователям.
А что это за способы?
Это те самые метафоры, о которых говорил еще Афанасьев. Иными словами, это искажения, или, мягче говоря, представления. Способы представить себе то, что видишь. Не видеть, не созерцать представлять!
В итоге Никита Ильич в своей программной статье «Проблемы реконструкции древнеславянской духовной культуры» прямо устанавливает:
«К фольклору следует подходить как к определенной системе мировоззрения и народных представлений, системе жанров и изобразительных средств, системе ритуальных функций и текстов...» (Толстой, Проблемы, с. 48).
Он, кажется, хотел сказать в этом месте о том, что народную духовную культуру надо изучать цельно. Но от этого не меняется само понимание им духовной культуры. Это либо представления, либо нечто, чему русского имени нет. Кстати, в той же самой статье он перечисляет, что входит в его понятие «духовной культуры». Как ни странно, там нет упоминания ни духа, ни души...
«Что же касается духовной культуры, в особенности той ее части, которая никак не причастна к культуре материальной (верования, обряды, обычаи, фольклор, хореография, народная музыка и т. п.)» (Там же, с. 52).
Я допускаю, я даже не сомневаюсь, что дух и душа не забыты им, а просто отнесены к верованиям. Но что такое народные верования для этнографа?
Я думаю, самым доходчивым способом показал это все тот же Зеленин. Публикуя свое собрание Вятских сказок, он со скрытым возмущением и какой-то даже детской обидой говорит о том, что народ верит в то, что рассказывает! В сказки верит!
«Вера моих вятских сказочников в содержание рассказываемых ими сказок еще бесспорнее, чем вера в свои сказки пермских сказочников. У Верхорубова, самого лучшего и вместе с тем самого интеллигентного из числа моих сказочников, иногда проскальзывает критическое отношение, недоверие к рассказываемой сказке, но самые восклицания, вырывающиеся у него в таких случаях, лучше всего доказывают, что, как общее правило, наш сказочник вполне верит в действительность описываемых им в сказках событий» (Зеленин, Кое-что о сказочниках..., с. 21).
Народ безусловно верил в то, что рассказывал собирателям, почему я и назвал измышления Даля о подлоге стариков и старух хамством. Интеллигентским хамством, стоило бы уточнить. Но что вкладывает сам интеллигент, и в частности, Зеленин в понятие «интеллигент»? Если судить по приведенному отрывку, интеллигент должен иметь «критическое отношение», то есть недоверие к тому, что ему рассказывают. Почему?
Наверное, потому, что он подозревает всех во лжи? Но откуда эта подозрительность? Из простого наблюдения: то, что говорит народ, не соответствует единственному истинному описанию мира, а именно его научной картине. А раз народные представления ей не соответствуют в общем, значит, все, что народ говорит не о земле, скотине или домашней утвари, ложно.
«Верхорубов, при всем его уме и интеллигентности, верит в леших, и
в разную другую чертовщину, в привидения и т. п» (Там же).
Умный и интеллигентный человек это не исследователь, это боец за дело своего сообщества. Он не будет проверять, он должен доказывать, что знает лучше, и потому обязан отвергать «разную чертовщину» просто исходно. Включая и душу, если судить по тому, что она полностью отсутствует в работах Зеленина.
Хотят того этнографы или не хотят, но само подобное естественнонаучное отношение к тому, что они собирают, просачивается в их работы, даже если они весьма «интеллигентны и критичны». Сам Зеленин не смог защититься от скрытых целей Афанасьева. Не смог и Никита Ильич Толстой защититься от мировоззренческого подхода Зеленина, хотя и был куда как критичен.
Я приведу один пример, который меня просто обезоруживает.
«Так, к примеру, в Полесье, как и во многих других славянских зонах, известно поверье о том, что солнце “играет”, то есть как бы подпрыгивает, переливается разными оттенками в определенные дни.
Это явление имеет разные названия: солнце играет, сдвигается, купается, гуляет, радуется, веселится. Названия картографируются, но картографируется и время (день), когда происходит “игра солнца”, наконец, могут быть нанесены на карту ритуалы и представления, связанные с “игрой солнца”. Ответы на вопросы оказываются тематически (и мифологически) связанными. Солнце “движется” преимущественно в той зоне, где его наблюдают в таком состоянии на Воздвижение, а “купается” на Ивана Купалу, ... “радуется” на Пасху, “играет” на Благовещенье, на Ивана Купалу.
Этот небольшой пример показывает плодотворность многостороннего подхода к предмету и объединяющую роль вербального компонента народного ритуала и народных представлений» (Толстой, Язык, с. 22).
Этот небольшой пример научной фени, простите, вербального компонента всех научных работ о русской культуре, показывает, что обычный человек из построений языковедов не может извлечь никакого смысла. И в первую очередь, потому что они остаются наследниками медицины и старательно стерилизуют все, к чему прикасаются. А стерилизовать, если кто не помнит, значит обезжизнивать.
У нашего народа никогда не было ритуалов и видения природы организмом. У него были обряды и обычаи. Неладно у наших языковедов с русским языком. Не русские они люди, а принадлежащие к европейски образованным. И с представлениями ученых все неладно. Как это самое явление «играющего солнышка» превратилось в устах нашего крупнейшего этнографа в представление и поверье?
Мы уже знаем, если этнограф говорит про кого-то, что тот верит в то, что говорит, значит, этнограф хочет сказать, что этот человек дурак или врет. Умные и интеллигентные люди должны показывать критичность даже тогда, когда сами знают, что это лишнее.
Разве такое вполне метеорологическое или атмосферное явление как «играющее солнышко» не наблюдало бесконечное число людей? Разве его не видели сами этнографы? Да любой человек, живущий не в городе, а на природе время от времени видит играющее солнышко. Это недоступно только горожанам, не выходящим из своих пещер. Мы проводим семинары на природе и поэтому не раз видели «играющее солнышко».
«Старая работа А.Н. Афанасьева “Поэтические воззрения славян на природу” в свое время имела большое значение, однако давно уже утратила всякую научную ценность. А.Н. Афанасьев был наиболее последовательным сторонником мифологической школы, возводившей все земное к небесному началу. Теории Гримма, Шварца и Макса Мюллера доведены им до крайности. В своих работах Афанасьев использовал статьи из малодоступных русских провинциальных изданий, однако даже пользоваться его трудами только как собраниями материалов также не рекомендуется, так как он не всегда разграничивает объективное изложение фактов и собственные субъективные выводы» (Зеленин, Восточнославянская этнография, с. 13-14).
Неприятие, как вы видите, жесткое и полное. С самим Зелениным его последователи обойдутся мягче. А при этом он сам шел во многом очень, очень близким к Афанасьеву путем. Общая оценка его творчества была сделана в середине девяностых годов прошлого века другим виднейшим русским этнографом и языковедом Никитой Ильичем Толстым.
Высказав общее положительное отношение к трудам и заслугам Зеленина, Толстой становится непримирим, когда доходит до рассказа об увлечениях Д. К. периода тридцатых годов, когда его работы начинают перекликаться с яфетической теорией языка академика Марра:
«Наивность некоторых объяснений Д. К. напоминает еще более наивные выкладки создателя “нового учения о языке” Н.Я. Марра. Н.Я. Марр был современником Д. К., и ему посвящена зеленинская работа о магической функции слов и словесных произведений (1935), в которой, как и в монографии “Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии” (1929-30), анализируются запреты на определенные слова» (Толстой, Труды Зеленина, с. 545).
Чуть ниже Толстой объясняет суть предвзятости, которую вносили в свои исследования Марр и Зеленин. Она прямо совпадает с тем подходом, который я показывал на примере Соболева, как проявления естественнонаучного эволюционизма в этнографии.
«Вероятно, сама идея стадиальности и единства глоттогонического (языкотворческого) процесса была воспринята Марром из положений эволюционной этнологической школы Тэйлора и Фрэзера, которые, грубо говоря, считали, что все человечество проходит единый путь культурного развития от первобытности до современной цивилизации и что отдельные этносы и этнические массивы находятся лишь на различных стадиях этого развития.
Отсюда нередко делался малообоснованный вывод, что культура африкан-ского или американского аборигена это “детство” современной европейской культуры.
Н.Я. Марр освоил этот тезис, приспособил его к языкам мира и довел до полного абсурда. В отличие от марристов Д. К. положений эволюционистов до абсурда не доводил…» (Там же, с. 546).
Но при этом его попытки подкрепить «рациональное зерно» эволюционной теории своим материалом приводили к тому, «что материал оставался сам по себе, а общие концептуальные построения сами по себе» (Там же).
Вот такое признание заслуг...
Что я хочу сказать этим примером? Да то, что ученые ошибаются, что далеко не всегда очевидно при чтении их работ, особенно когда они написаны уверенно и даже высокомерно. И не всегда вольны следовать даже тем принципам, что сами заявляют.
Вот Зеленин заявил, что у Афанасьева ничего брать нельзя он ненаучен! И я не сомневаюсь, что он был в этом искренен. Но был ли он при этом и проницателен? Видел ли он скрытые, точнее, не заявленные цели Афанасьева? В частности, цель стать уважаемым членом научного сообщества? Не видеть это было невозможно. Но у ученых существует всеобщий договор умолчания об этой цели. Предполагается, что она есть, но не важна, потому что ценить ученого надо по тому, как он постигал истину.
Верно, согласен. Но зачем же при этом еще и лишать себя видения? Афанасьев хотел быть большим ученым. А большим ученым можно было стать, только если тебя уважали естественники. И Афанасьев, юрист и языковед, старается обрести соответствующий облик, используя естественнонаучные словечки. В итоге его речь становится простонаучно поэтической, но не это главное. Главное то, что он сам вынужден приспосабливать простонаучные словечки к сказанному, а сказанное приспосабливать к ним!
Из-за этого меняется сам способ думать, потому что на деле это все оказывается приспособлением рассказа о народных обычаях к понятиям естественнонаучной картины мира. У Афанасьева это повело только к тому, что он перестал доверять народу и стал за него выдумывать, какой смысл был утерян в народных высказываниях и обычаях. У Даля это зашло дальше, и он вместе с врачами-просветителями высмеивал и стерилизовал народную культуру от всего, что противоречило материалистической вере естественников.
Зеленин, отрицая Афанасьева, не взял у него ничего, кроме того, чему среди ученых не принято давать имена скрытой цели стать уважаемым ученым. А она непроизвольно повела к необходимости думать об этнографии естественнонаучно. Как только он от вполне материальных вещей вроде сельского хозяйства и скотоводства и одежды переходит к Народным верованиям, у него тут же начинают появляться выражения, вроде:
«Восприятие природы как живого организма, который не только живет особой самостоятельной жизнью (аниматизм), но также одушевлен и наполнен различными духами (анимизм), это восприятие довольно хорошо сохранилось
у восточных славян до наших дней» (Зеленин, Восточнославянская этнография, с. 411).
Куда девается вся чрезмерная критичность и независимость мысли наших этнографов, как только появляется возможность сумничать физиологично?! Где этот борец за чистоту этнографических описаний, походя оплевавший не одного собирателя за предвзятость взглядов, слышал, чтобы русский мужик говорил о каком-то организме, да еще в отношении природы? Что за подтасовка?! Ведь, в сущности, он говорит здесь, что простой русский мужик глядит на природу, а прозревает организм.
Да, так делает ученый, когда не хочет видеть действительность. Но это лишь модный научный способ говорить, хотя в последние десятилетия он заменился другой модой. Теперь такие исследователи, как тот же Никита Ильич Толстой, глядят на проходящий перед ними обряд, а видят текст.
И принимаются описывать происходящее с точки зрения грамматики...
Как он сам объяснял: «под текстом понимается не последовательность написанных или произнесенных слов, а некая последовательность действий,
и обращения к предметам, имеющим символический смысл, и связанная с ними речевая последовательность. Считая, например, обряд таким текстом, выраженным семиотическим языком культуры, мы выделяем в нем три формы, три кода или три стороны языка вербальную (словесную, слова), реальную (предметную предметы, вещи) и акциональную (действенную действия)» (Толстой, Язык и культура, с. 32).
К чему ведет тот способ описывать видение русским человеком природы, который предлагает Зеленин? Если это дается в учебнике этнографии, то означает одно: студентам навязывается способ, которым желательно делать этнографию. Если это дается в основополагающих работах человека, который создал свою исследовательскую школу, как Толстой, то это означает, что подобный способ видеть то, на что глядишь, навязывается исследователям.
А что это за способы?
Это те самые метафоры, о которых говорил еще Афанасьев. Иными словами, это искажения, или, мягче говоря, представления. Способы представить себе то, что видишь. Не видеть, не созерцать представлять!
В итоге Никита Ильич в своей программной статье «Проблемы реконструкции древнеславянской духовной культуры» прямо устанавливает:
«К фольклору следует подходить как к определенной системе мировоззрения и народных представлений, системе жанров и изобразительных средств, системе ритуальных функций и текстов...» (Толстой, Проблемы, с. 48).
Он, кажется, хотел сказать в этом месте о том, что народную духовную культуру надо изучать цельно. Но от этого не меняется само понимание им духовной культуры. Это либо представления, либо нечто, чему русского имени нет. Кстати, в той же самой статье он перечисляет, что входит в его понятие «духовной культуры». Как ни странно, там нет упоминания ни духа, ни души...
«Что же касается духовной культуры, в особенности той ее части, которая никак не причастна к культуре материальной (верования, обряды, обычаи, фольклор, хореография, народная музыка и т. п.)» (Там же, с. 52).
Я допускаю, я даже не сомневаюсь, что дух и душа не забыты им, а просто отнесены к верованиям. Но что такое народные верования для этнографа?
Я думаю, самым доходчивым способом показал это все тот же Зеленин. Публикуя свое собрание Вятских сказок, он со скрытым возмущением и какой-то даже детской обидой говорит о том, что народ верит в то, что рассказывает! В сказки верит!
«Вера моих вятских сказочников в содержание рассказываемых ими сказок еще бесспорнее, чем вера в свои сказки пермских сказочников. У Верхорубова, самого лучшего и вместе с тем самого интеллигентного из числа моих сказочников, иногда проскальзывает критическое отношение, недоверие к рассказываемой сказке, но самые восклицания, вырывающиеся у него в таких случаях, лучше всего доказывают, что, как общее правило, наш сказочник вполне верит в действительность описываемых им в сказках событий» (Зеленин, Кое-что о сказочниках..., с. 21).
Народ безусловно верил в то, что рассказывал собирателям, почему я и назвал измышления Даля о подлоге стариков и старух хамством. Интеллигентским хамством, стоило бы уточнить. Но что вкладывает сам интеллигент, и в частности, Зеленин в понятие «интеллигент»? Если судить по приведенному отрывку, интеллигент должен иметь «критическое отношение», то есть недоверие к тому, что ему рассказывают. Почему?
Наверное, потому, что он подозревает всех во лжи? Но откуда эта подозрительность? Из простого наблюдения: то, что говорит народ, не соответствует единственному истинному описанию мира, а именно его научной картине. А раз народные представления ей не соответствуют в общем, значит, все, что народ говорит не о земле, скотине или домашней утвари, ложно.
«Верхорубов, при всем его уме и интеллигентности, верит в леших, и
в разную другую чертовщину, в привидения и т. п» (Там же).
Умный и интеллигентный человек это не исследователь, это боец за дело своего сообщества. Он не будет проверять, он должен доказывать, что знает лучше, и потому обязан отвергать «разную чертовщину» просто исходно. Включая и душу, если судить по тому, что она полностью отсутствует в работах Зеленина.
Хотят того этнографы или не хотят, но само подобное естественнонаучное отношение к тому, что они собирают, просачивается в их работы, даже если они весьма «интеллигентны и критичны». Сам Зеленин не смог защититься от скрытых целей Афанасьева. Не смог и Никита Ильич Толстой защититься от мировоззренческого подхода Зеленина, хотя и был куда как критичен.
Я приведу один пример, который меня просто обезоруживает.
«Так, к примеру, в Полесье, как и во многих других славянских зонах, известно поверье о том, что солнце “играет”, то есть как бы подпрыгивает, переливается разными оттенками в определенные дни.
Это явление имеет разные названия: солнце играет, сдвигается, купается, гуляет, радуется, веселится. Названия картографируются, но картографируется и время (день), когда происходит “игра солнца”, наконец, могут быть нанесены на карту ритуалы и представления, связанные с “игрой солнца”. Ответы на вопросы оказываются тематически (и мифологически) связанными. Солнце “движется” преимущественно в той зоне, где его наблюдают в таком состоянии на Воздвижение, а “купается” на Ивана Купалу, ... “радуется” на Пасху, “играет” на Благовещенье, на Ивана Купалу.
Этот небольшой пример показывает плодотворность многостороннего подхода к предмету и объединяющую роль вербального компонента народного ритуала и народных представлений» (Толстой, Язык, с. 22).
Этот небольшой пример научной фени, простите, вербального компонента всех научных работ о русской культуре, показывает, что обычный человек из построений языковедов не может извлечь никакого смысла. И в первую очередь, потому что они остаются наследниками медицины и старательно стерилизуют все, к чему прикасаются. А стерилизовать, если кто не помнит, значит обезжизнивать.
У нашего народа никогда не было ритуалов и видения природы организмом. У него были обряды и обычаи. Неладно у наших языковедов с русским языком. Не русские они люди, а принадлежащие к европейски образованным. И с представлениями ученых все неладно. Как это самое явление «играющего солнышка» превратилось в устах нашего крупнейшего этнографа в представление и поверье?
Мы уже знаем, если этнограф говорит про кого-то, что тот верит в то, что говорит, значит, этнограф хочет сказать, что этот человек дурак или врет. Умные и интеллигентные люди должны показывать критичность даже тогда, когда сами знают, что это лишнее.
Разве такое вполне метеорологическое или атмосферное явление как «играющее солнышко» не наблюдало бесконечное число людей? Разве его не видели сами этнографы? Да любой человек, живущий не в городе, а на природе время от времени видит играющее солнышко. Это недоступно только горожанам, не выходящим из своих пещер. Мы проводим семинары на природе и поэтому не раз видели «играющее солнышко».







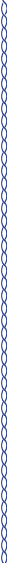

Почему же его потребовалось превратить в поверье?
Я предполагаю, что только будучи убитым до поверья, явление может быть превращено в текст. А в текст, если подойти научно, можно превратить все. Даже душу...
Я предполагаю, что только будучи убитым до поверья, явление может быть превращено в текст. А в текст, если подойти научно, можно превратить все. Даже душу...